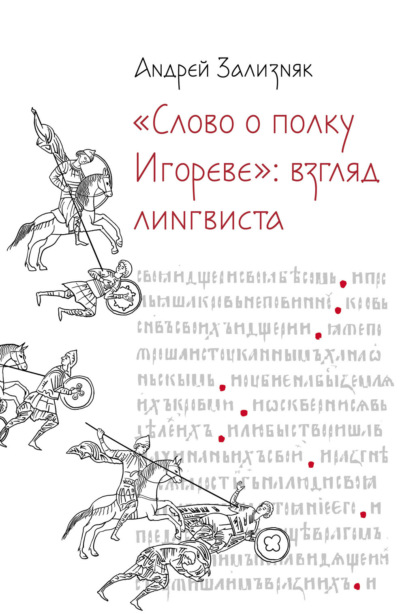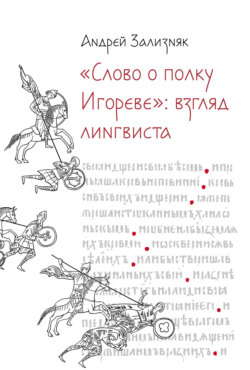
000
ОтложитьЧитал
4) и новогородци же тѣх посадниковъ и бояръ и животъ пограбили, и дворы и доспѣхъ поотнимали и всю ратноую приправоу, котори то такъ чинили (Псковская 3-я летопись [1477], Строевский список XVI в., л. 181; в Архивском 2-м списке то отсутствует); но в данном случае следует также считаться с возможностью того, что здесь то – не релятивизатор, а местоимение 'то'.
Что касается которыи то в адъективной функции, то оно четче всего представлено польским który to; ср., например, otrzymałem list od redaktora, który to list… 'я получил письмо от редактора, каковое письмо…'. Которыи то в адъективной функции изредка появляется также (возможно, под польским влиянием) в староукраинских грамотах XV в., например: и тую граныцю скончылы ‹…›, которыи то граныци ‹…› потверждаем (см. ССУМ, 1: 506). В великорусской зоне которыи то в адъективной функции не засвидетельствовано.
Итак, в СПИ встретилась очень редкая конструкция (с сочетанием которыи то в субстантивной функции), представленная, за исключением одного не совсем надежного примера, лишь в XII–XIII вв.
Аноним, если это именно он догадался вставить в текст столь изысканную конструкцию, очевидно, все-таки сумел отыскать в море древних рукописей какие-то из наших примеров и осознать их ценность для его фальсификата.
§ 14а. В работе Мозер 2005 высказана мысль, что которую то в принципе могло появиться в тексте СПИ не как наследие древнерусского подлинника, а как заимствование из польского który to, совершенное фальсификатором XVIII века.
С тем, что это в принципе возможно, я согласен. Но с тем, что две версии происхождения этого которую то – из древнерусского или из польского – равновероятны, я не могу согласиться.
Взглянем на вопрос о возможных заимствованиях в СПИ из других славянских языков, который уже неоднократно возникал выше, с более общей точки зрения.
Предполагаемые полонизмы, богемизмы, сербизмы и прочие инославянские заимствования в некотором русском тексте естественно делить на две категории:
а) «сильные»; это такие явления, которых в древнерусском не было или по крайней мере они там пока что не обнаружены;
б) «слабые»; это явления, которые имелись также и в древне-русском.
Представляется очевидным, что если подозреваемое заимствование относится к категории слабых, то и сама гипотеза о том, что это заимствование, а не собственно русское явление, оказывается весьма слабой. Такая гипотеза может быть правдоподобной только в том случае, если помимо нее уже доказано, что текст вообще был подвержен внедрению заимствований из данного языка.
В том или ином уголке славянского мира можно найти в частично или даже полностью сохранившемся виде почти любое древнеславянское языковое явление. Поэтому, допустив, что сочинитель СПИ знал много живых славянских языков, вполне можно предположить, например, что правильное двойственное число он заимствовал из словенского языка, правильное расположение энклитик во фразе – из сербского, имперфекты совершенного вида – из болгарского, местоимение которыи то – из польского, усилительную частицу ти – из чешского, и т. д.
Допустить, что сочинитель знал все эти языки, в принципе можно. Но решительно невозможно объяснить, каким образом ему удалось взять из них только такие явления, которые имелись (по данным лингвистики нашего времени) также и в древнерусском. Ведь в любом из этих славянских языков есть десятки явлений инновационного характера, которые развились именно в этом языке, а в древнерусском отсутствовали. Как мог сочинитель знать, что эти явления заимствовать не следует? См., например, выше, в § 13а, о специфических сербских языковых явлениях, которые Аноним в принципе мог заимствовать, однако же не сделал этого.
Остается только предположить, что он, помимо инославянских языков, хорошо знал также и древнерусские рукописи и заимствовал только те явления, которые обнаруживались также и в этих рукописях. Но если это так, то при чем здесь заимствования из других языков? Тогда это просто использование подлинных древнерусских языковых черт.
Как легко видеть, предположение о том, что которую то в СПИ есть заимствование из польского który to, – это предположение о слабом полонизме. Оно может приобрести какое-то правдоподобие только в том случае, если будет установлено, что СПИ писал человек, черпавший что-то из польского.
Между тем бесспорных полонизмов, т. е. несомненно пришедших из польского и несомненно отсутствовавших в древнерусском, в СПИ не обнаружено (см. об этом ниже, «О противниках…», § 4).
И немедленно возникает вопрос, о котором речь шла выше: почему в СПИ попало (в русифицированной форме) именно który to (имеющее древнерусское соответствие), но не, скажем, któryś, или ten, или tamten, или żeby и т. п. (не имеющие такого соответствия)?
Здесь уместно вспомнить убедительный список из 20 синтаксических явлений, которые сам М. Мозер выделяет в другой работе (Мозер 1998) как элементы польского и, в терминологии автора, «юго-западно-русского» влияния на русский синтаксис. Это следующие конструкции (ради краткости опускаем их точное описание, ограничиваясь примерами, в которых подчеркнут характерный элемент): 1) есть отцом; 2) полные формы прилагательных в предикативной функции; 3) то же для страдательных причастий; 4) сотворився безумным; 5) не забвенную мя учини; 6) такъ вѣрни; 7) accusativus cum infinitivo и nominativus cum infinitivo; 8) генитив качества (и такого был мужественного сердца); 9) не почитаютъ насъ там… и за пса смердящаго; 10) оборот что за; 11) через + В. падеж в значении средства или причины; 12) до царя Василья поидоша; 13) по замерзлыхъ водахъ; 14) суровѣйшаго над тя мучителя; 15) просити о помощь; 16) будущее время в форме буду + инфинитив; 17) имѣти + инфинитив; 18) царицу тобою счаровано; 19) союз естьли (если); 20) союз так что (см. также Крысько 2001).
Если сочинителем СПИ был человек XVIII века, говоривший по-русски и по-польски (вероятно, также и по-украински и/или по-белорусски), то весь этот ряд явлений был в числе его речевых автоматизмов. Каким же образом могло получиться, что ни одно из этих 20 явлений не попало в текст СПИ, тогда как który to попало?
Стороннику данной версии тут остается только сказать: «Случайность». Разумеется, случайности бывают. Но верно и то, что чем больше случайностей необходимо допустить, чтобы принять некоторую версию, тем менее надежна сама версия.
Можно также допустить, что Аноним сознательно вставил в текст польское слово, полагая, что это усилит древний колорит. Но и в этом случае остается необъяснимым, почему из множества специфических польских слов он остановил свое внимание именно на który to, которое имеет соответствие в древнерусском. Если же он сделал это именно потому, что встретил которыи то также и в каком-то древнерусском источнике, то тогда достаточно одного этого – отпадает необходимость искать объяснения в польском.
Таковы причины общего характера, по которым гипотеза о том, что которую то в СПИ появилось под влиянием польского który to, оказывается маловероятной.
Но есть и совершенно конкретное основание для того, чтобы признать здесь древнерусский источник гораздо более вероятным, чем польский. Дело в том, что польское który to и древнерусское которыи то выступают в составе разных синтаксических конструкций – соответственно адъективной и субстантивной. Если бы Аноним действовал здесь просто под влиянием своего владения польским языком, он получил бы фразу уже лжу убуди, которую то лжу бяше успилъ (с повторением слова лжу). Но ведь он написал не так, а совершенно правильно по-древнерусски. Выходит, он сделал поправку на какие-то виденные им подлинные древнерусские фразы. Но тогда при чем здесь польский язык?
Таким образом, два конкурирующих объяснения для которую то в СПИ – из древнерусского или из польского – никак нельзя признать равноправными и равновероятными.
Имперфект совершенного вида
§ 14б. Значение и употребление имперфекта совершенного вида в славянских языках, в частности, в древнерусском, блестяще проанализированы в основополагающей работе Ю. С. Маслова [Маслов 1954].
Основным значением данной формы было то, которое Ю. С. Маслов называет кратно-перфективным и определяет так: «многократно повторявшееся в прошлом действие, каждый отдельный акт которого достиг завершения»{15}.
Пример, приводимый Ю. С. Масловым в качестве образцового (здесь и ниже имперфекты совершенного вида подчеркиваем): єгда же подъпь хутьсѧ, начьнѧхуть роптати на кнѧзь, г
хутьсѧ, начьнѧхуть роптати на кнѧзь, г юще… 'а когда подвыпьют, начинали роптать на князя, говоря…' (ПВЛ по Лавр., л. 43 об.). Отметим на примере перевода 'подвыпьют' (где имперфект совершенного вида передан современным презенсом совершенного вида), что современный язык довольно часто именно так выражает рассматриваемое значение.
юще… 'а когда подвыпьют, начинали роптать на князя, говоря…' (ПВЛ по Лавр., л. 43 об.). Отметим на примере перевода 'подвыпьют' (где имперфект совершенного вида передан современным презенсом совершенного вида), что современный язык довольно часто именно так выражает рассматриваемое значение.
Ю. С. Маслов разбирает в основном примеры из «Повести временных лет» и из Жития Феодосия. В самом деле, в этих двух памятниках сосредоточено наибольшее количество случаев употребления данной формы. Ниже мы приводим примеры также и из ряда других памятников.
Часто в составе фразы содержатся имперфекты обоих видов, например (имперфекты несовершенного вида даем прямым шрифтом):
 ко
ко  плъкъ приносѧх
плъкъ приносѧх коры́сть къ своимъ домомъ, то́и бы́сть сла́венъ, иже боле възмѧше (Флав., 405 г);
коры́сть къ своимъ домомъ, то́и бы́сть сла́венъ, иже боле възмѧше (Флав., 405 г);
а єгда же сѣмъ придѧше, аче єм что коли рѣчахъ, да оубиваше мѧ палицами и многа ми зла творѧше (Жит. Андр. Юрод., С133).
что коли рѣчахъ, да оубиваше мѧ палицами и многа ми зла творѧше (Жит. Андр. Юрод., С133).
С морфологической точки зрения существенно то, что в ряде случаев имперфекты от обоих членов видовой пары совпадают. Например, обличити и обличати имеют одинаковый имперфект обличаше; аналогично ублажаше, раздѣляше, примиряше, измѣняше и т. п. Одинаковым может быть также имперфект для таких пар, как, например, отъпустити и отъпущати, въсхытити и въсхыщати, прославити и прославляти – это отъпущаше, въсхыщаше, прославляше; но в этом случае в совершенном виде есть и второй вариант (который в видовом отношении однозначен) – отъпустяше, въсхытяше, прославяше.
Пример (двувидовые имперфекты здесь и ниже даем прямым шрифтом и помечаем звездочкой): и се раздѣл х
х ть*, да къждо въ нощи свою часть измел
ть*, да къждо въ нощи свою часть измел шеть на състроѥниѥ хлѣбомъ (Житие Феодосия, л. 36а).
шеть на състроѥниѥ хлѣбомъ (Житие Феодосия, л. 36а).
По-видимому, такие двувидовые имперфекты воспринимались в зависимости от контекста как принадлежащие к тому или к другому виду. К сожалению, надежно установить вид глагола в таких случаях невозможно; поэтому мы не будем пытаться этого достичь, а при подсчетах условимся рассматривать такие примеры вместе с имперфектами несовершенного вида, т. е. вместе с основной массой имперфектов.
Приведем для наглядности также пример описания сложной ситуации из целой цепочки событий, которая целиком повторялась многократно: сѣдъ начнѧше играти чатыми, да ѥгда кто  нiщихъ дерьзнувъ въсхыщаше* оу него, пьхнѧше ѥго пѧстью; се же видивше прочѣи нищии, мьстити хотѧще друга своѥго, поидѧху на нь с батогы; ‹…› повѣргъ же чатѣ, побѣгнѧше
нiщихъ дерьзнувъ въсхыщаше* оу него, пьхнѧше ѥго пѧстью; се же видивше прочѣи нищии, мьстити хотѧще друга своѥго, поидѧху на нь с батогы; ‹…› повѣргъ же чатѣ, побѣгнѧше  нихъ, они же к тому начнѧху грабити цаты ѥго (Жит. Андр. Юрод., л. 10в).
нихъ, они же к тому начнѧху грабити цаты ѥго (Жит. Андр. Юрод., л. 10в).
Рассмотрим теперь важный вопрос об эволюции древнерусского имперфекта совершенного вида во времени. Анализ источников ясно показывает, что активное употребление этой формы характерно лишь для древнейших памятников и уже на протяжении древнерусского периода наблюдается резкое падение ее употребительности, а в дальнейшем полное отмирание.
Разумеется, здесь существенно то, что в живом языке рано исчез вообще весь имперфект (правда, вопрос о времени этого события продолжает оставаться дискуссионным). Но в книжном языке имперфект продолжал существовать, а в собственно церковнославянском существует и поныне. Таким образом, отмирание имперфекта совершенного вида протекало гораздо быстрее, чем отмирание имперфекта вообще.
Приводим в виде таблицы количественные данные по нескольким важнейшим памятникам XI–XV веков. В подсчет числа имперфектов совершенного вида включена также форма будяше (которая ведет себя как принадлежащая именно к этой категории), но не включена форма не дадяше (которая стоит особо, а именно, большей частью ведет себя так, как если бы принадлежала к несовершенному виду).
Для каждого памятника указан его общий объем (количество слов) и число содержащихся в нем имперфектов совершенного вида{16} (сокращенно: имп. СВ) в сравнении с общим числом имперфектов в памятнике.
Дата при памятнике означает: для летописей – время составления соответствующей группы погодных записей, для прочих памятников – время их создания (или перевода).
Из еще не упоминавшихся выше памятников рассмотрены:
«Александрия» (перевод XI–XII вв., в списке XV в.);
Суздальская летопись (за XII–XIII вв.) по Лавр.;
Уваровская летопись (за XII–XV вв.).
Новгородские и псковские памятники в список не включены, ввиду их особенности, рассматриваемой ниже отдельно.

Здесь взяты памятники, где имеется хотя бы один пример имперфекта совершенного вида. Но во многих памятниках нет ни одного такого примера. Таковы, в частности (из числа тех, где имперфект вообще употребляется достаточно часто): XII в. – «Хождение» игумена Даниила, «Повесть о Варлааме и Иоасафе»; XII–XIII вв. – «Пчела», «Девгениево деяние»; XIII в. – «Моление Даниила Заточника»; XVI в. – «Повесть о Петре и Февронии». Лишь по одному примеру встретилось в «Чудесах Николы» и «Повести об Акире Премудром» (произведениях XI–XII вв.).
Из таблицы видно, что доля имперфектов совершенного вида никогда не была велика, а тексты, где она наибольшая (6–12 %), созданы в XI – начале XII века (это Житие Феодосия и «Повесть временных лет»). В прочих памятниках, даже ранних, эта доля весьма мала, причем уже и в XII веке имеются также такие памятники, где она равна нулю. Позднее XIII века примеров уже почти нет.
Как установил Ю. С. Маслов, старославянские памятники существенно отличаются в данном отношении от ранних древнерусских: имперфект совершенного вида встречается здесь очень редко. Так, в Мариинском евангелии таких форм просто нет (если не считать единичного не дадѣаше, которое, как уже указано, стоит особо; что касается словоформ съказаше, облобызааше, облизаахѫ, повѣдаашете, то здесь они принадлежат к несовершенному виду).
То же верно и для церковнославянских памятников русского извода. Например, в Изборнике 1076 года таких форм нет вообще; в Изборнике 1073 года (объемом в 134 тысячи слов) отмечено только единичное боудѧше.
Обнаруживается также диалектное различие внутри древнеруского языка между южными памятниками и новгородско-псковскими. В Новгородской первой летописи имперфекты совершенного вида почти отсутствуют: в Синодальном списке имеется лишь один пример, причем даже не вполне надежный, поскольку совершенный вид не гарантирован (брат(ъ) брат(у) не съжалѧшетьсѧ [1230]); в младшем изводе всего на два примера больше. Совсем мало правильных имперфектов совершенного вида также в псковских летописях (случаи ошибочного употребления данной формы не в счет, см. о них ниже).
Таким образом, активное употребление имперфекта совершенного вида было характерной чертой южной части восточнославянской зоны, отличавшей ее как от старославянского и церковнославянского языка, так и от новгородско-псковской зоны.
Отмирание имперфекта совершенного вида, начавшееся уже в XII веке, выражалось в том, что вместо него все шире употреблялся обычный имперфект, т. е. имперфект несовершенного вида. Ю. С. Маслов демонстрирует многочисленные примеры из летописей, где переписчик заменяет умряше, стоявшее в более раннем списке, на умираше, съжьжаху – на съжигаху, вложаху – на влагаху, изидяше – на исходяше, принесяше – на приносяше, и т. п. (во всех этих парах первый член относится к совершенному виду, второй – к несовершенному). В ряде случаев в качестве замены выступает уже глагол несовершенного вида с суффиксом -ыва– (-ива-); например, приискаху заменяется на приискываху, наказаше – на наказываше, спряташе – на опрятываше.
Этому направлению эволюции, очевидно, способствовало и наличие многочисленных случаев омонимии двух видов в имперфекте, типа обличаше (от обличити и от обличати), о которой см. выше.
Другой путь – замена на презенс совершенного вида (где отнесение по смыслу к прошедшему времени обеспечивается контекстом). Например, фраза из ПВЛ по Лавр. и по семь творѧху кладу велику и възложахуть и на кладу мртв҃ца в Ипат. имеет вид: и по семъ творѧху кладу велику и възложать на кладу м твѣца. Аналогичным образом будяше может быть заменено на будеть, пьхнѧше – на пьхнеть и т. п. Как уже отмечено, этот способ передачи рассматриваемого значения вполне возможен и в современном языке.
твѣца. Аналогичным образом будяше может быть заменено на будеть, пьхнѧше – на пьхнеть и т. п. Как уже отмечено, этот способ передачи рассматриваемого значения вполне возможен и в современном языке.
Как поясняет Ю. С. Маслов, тем самым язык не сохранил древнего соединения в одной форме двух значений: повторяемости события в прошлом и совершенного вида. В позднейшем языке в одних случаях сохранялось только первое (при таких заменах, как принесяше на приносяше, приискаху на приискываху и т. п.), в других – только второе (при заменах типа възложахуть на възложать); в последнем случае современный язык может компенсировать утрату указания на время добавлением слова бывало (бывало, он зайдет к вечеру… и т. п.).
В отдельных случаях имперфект совершенного вида устранялся при переписывании просто путем замены приставочного глагола на бесприставочный, например, изидяше на идяше, усняше на спяше. В целом процесс устранения таких форм шел довольно быстро; например, в ПВЛ по Лаврентьевскому списку 1377 г. 56 примеров имперфекта совершенного вида, а в Радзивилловском списке, который всего на сто лет моложе, из них сохранено только 32, остальные тем или иным способом заменены.
Писцы (переписчики) XIV и позднейших веков уже не ощущали специфического значения рассматриваемой грамматической формы. Поэтому прежние словоформы имперфекта совершенного вида могут встретиться под их пером уже в «чужом» значении, например, в значении аориста. Вот характерный пример. Фраза старшего извода НПЛ ([1171]) и выгна и из города, и[д]е Соуждалю къ  ндрееви в младшем изводе под пером редактора XV века принимает вид: и выгнаша его изъ Новагорода, и онъ поидяше къ Суздалю къ князю Андрѣю. В древнем языке поидяше ('он всякий раз шел') – это имперфект совершенного вида. Но писец XV века уже не знает его значения; для него это просто один из возможных способов выражения прошедшего времени, и вот он ставит эту словоформу вместо аориста иде ('он пошел') – в контексте, где речь явно идет о единичном, а не о повторяющемся действии.
ндрееви в младшем изводе под пером редактора XV века принимает вид: и выгнаша его изъ Новагорода, и онъ поидяше къ Суздалю къ князю Андрѣю. В древнем языке поидяше ('он всякий раз шел') – это имперфект совершенного вида. Но писец XV века уже не знает его значения; для него это просто один из возможных способов выражения прошедшего времени, и вот он ставит эту словоформу вместо аориста иде ('он пошел') – в контексте, где речь явно идет о единичном, а не о повторяющемся действии.
Общее смешение имперфекта и аориста (в частности, смешение окончания 3-го лица единств. числа имперфекта -ше и окончания 3-го лица множ. числа аориста -ша), которое все шире распространяется в XV и позднейших веках, окончательно уничтожает имперфект совершенного вида как самостоятельную грамматическую форму. Например, в Строевском списке Псковской 3-й летописи (XVI в.) словоформа поехаше может означать как 'они поехали' (т. е. выступать как вариант к аористу поехаша), так и 'он поехал' (и тогда это вариант к аористу поеха); между тем в древнем языке поѣхаше могло быть только имперфектом совершенного вида (со значением 'он всякий раз ехал').
Таким образом, позднее XV (а возможно, даже XIV) века никто уже не умел правильно по смыслу употреблять формы имперфекта совершенного вида. Единичные случаи правильного его употребления сохранялись только в списках с древних оригиналов; но ни переписчики, ни читатели уже не понимали, что это формы с особым грамматическим значением.
Обратимся теперь к «Слову о полку Игореве». В этом памятнике есть несколько фраз с имперфектами совершенного вида. Приводим их (сохраняя принятую выше символику).
Тогда пущашеть* 10 соколовь на стадо лебедѣй: которыи дотечаше, та преди пѣс[н]ь пояше (4);
Камо туръ поскочяше, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежать поганыя головы Половецкыя (54);
Всю нощь съ вечера босуви врани възграяху (98).
Кроме этих ясных случаев, где глагол (дотечи, поскочити, възграяти) бесспорно относится к совершенному виду, имеется еще два примера, где совершенный вид лишь возможен, но не гарантирован:
Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше (159){17}.
В самом деле, наличие в древних текстах, в частности, такого вторичного имперфектива, как сърыскывати (см. Срезн.) говорит за то, что исходное сърыскати относилось к совершенному виду. Существенно также, что в более позднее время это уже безусловно верно для всех приставочных производных от рыскать, ср. современные обрыскать, изрыскать, порыскать и т. д. С другой стороны, причастие нарищуще в СПИ, очевидно, относится к несовершенному виду, и так же следует интерпретировать приводимые в Срезн. примеры презенса пририщеть в значении настоящего времени.
Сравнение приведенных фраз с материалом древнерусских памятников показывает, что они вполне сходны по морфологии, синтаксису и значению с подлинными древнерусскими. Так что если они сочинены фальсификатором, то здесь он справился со своей задачей очень хорошо.
Отметим прежде всего, что ни одна из словоформ дотечаше, поскочяше, възграяху, дорискаше, прерыскаше не отмечена в готовом виде ни в одном известном нам древнерусском памятнике, т. е. все эти словоформы фальсификатор должен был построить самостоятельно. Между тем все они морфологически безупречны.
Значение этих словоформ в составе приведенных фраз тоже вполне соответствует основному значению рассматриваемой грамматической формы.
Так, дотечаше означает '[всякий раз] достигал (догонял)' ('которую лебедь достигнет, та пела'); камо поскочяше – '[всякий раз] куда бы ни поскакал' ('куда ни поскачет, там лежат…').
Особенно интересна в данном отношении словоформа възграяху. В переводах на современный русский язык слова врани възграяху передаются как 'вóроны граяли' (или 'каркали', или 'кричали'), т. е. во всех случаях перевод такой, как если бы в тексте стояло не възграяху, а просто граяху.
Между тем приставка въз- здесь отнюдь не пустая. В соединении с глаголами, передающими звуки человеческого или звериного голоса, она означает начало, причем резкое, соответствующего звука. Это хорошо видно в современном русском языке: ср. вскричать, взвыть, взреветь, возрыдать, вскрикнуть, взвизгнуть, всхрапнуть и др. Часть этих глаголов засвидетельствована и в древнерусском, например, въскричати, възвыти, възрюти; кроме того, здесь находим възъпити, възговорити, въспѣти, въстонати и др.; особо отметим възгракати (вранъ же оубо сѣдши на д бе и възграка – Жития святых XVI в., Срезн. I: 348).
бе и възграка – Жития святых XVI в., Срезн. I: 348).
Отсюда ясно, что възграяти означает 'вскрикнуть (птичьим криком)', 'начать граять'. Легко понять, чтó имеется в виду: стая ворон, галок и т. п. может какое-то время молча сидеть на деревьях, и вдруг вся она взлетает с одновременным резким криком. Этот вскрик целой стаи и поныне воспринимается человеком как неприятный, зловещий, угрожающий; никак не меньшие чувства он, конечно, вызывал и в древности. В «мутном сне» Святослава фигурируют именно такие зловещие птичьи вскрики, которые многократно повторялись всю ночь с вечера. Древнерусский язык дал возможность (современным языком утраченную) точно выразить это одним словом: възграяху. Ныне это можно попытаться приблизительно передать разве что словом вскрикивали (пожертвовав точностью глагола граять, поскольку потенциальное *взграивали едва ли допустимо в литературном языке).
Аналогичное истолкование в принципе возможно и для словоформ дорискаше и прерыскаше: Всеслав в волчьем образе многократно рыщущей звериной побежкой до рассвета достигал Тьмутаракани и многократно перебегал дорогу восходящему солнцу.
Три имперфекта совершенного вида (или даже пять, если к их числу относятся также дорискаше и прерыскаше) приходятся в СПИ на несравненно меньшее общее число имперфектов, чем в рассмотренных выше памятниках: в СПИ их всего 39 (а если не считать бяшеть, бяхуть, стоящих несколько особо, то 35). Хотя для полноценного статистического сравнения с указанными выше крупными памятниками данных здесь недостаточно, все же ясно, что в этом пункте СПИ более всего сходно с Житием Феодосия и с «Повестью временных лет» и совершенно не похоже на памятники XIV–XV веков.
Можно отметить и то более частное обстоятельство, что СПИ обнаруживает в этом пункте сходство с южными, а не с северными древнерусскими памятниками. В рамках версии подлинности это хорошо согласуется с тем, что СПИ посвящено событию из жизни южной Руси.
Но все же главное здесь не в количественных оценках. Главное в том, что в данном отношении в тексте СПИ безукоризненно соблюдены морфологические и семантические правила, которыми позднее XV века на Руси не владел уже никто – до открытия их заново путем научного лингвистического анализа в XIX–XX веках.
В отличие от двойственного числа, о самом существовании которого человек XVIII века все-таки знал из церковнославянских грамматик, о грамматическом явлении, называемом ныне имперфектом совершенного вида, в этих грамматиках не было ни малейшего намека.
Прежде всего, в этих грамматиках не было ясного понятия о противопоставлении тех двух сущностей, которые мы ныне называем видами. Хотя сам термин «вид», равно как «совершенный вид», уже существовал, он понимался совсем иначе, чем теперь; например, Смотрицкий в качестве образцов глаголов совершенного вида дает чт и стою; как образцы двух разных видов у него приводятся чт
и стою; как образцы двух разных видов у него приводятся чт и читаю. Не было также единого понятия, соответствующего современному понятию имперфекта.
и читаю. Не было также единого понятия, соответствующего современному понятию имперфекта.
Таким образом, чтобы открыть само существование того грамматического явления, которое мы называем имперфектом совершенного вида, Аноним должен был ни много ни мало вначале самостоятельно прийти к современному пониманию того, как глаголы делятся на два вида и как имперфект выделяется среди других грамматических форм.
После этого он должен был заметить, что в некоторых памятниках в качестве чрезвычайно редкого исключения (а именно, в 1–2 процентах случаев, максимум в 6–12), говоря в современных терминах, имперфект образуется от глаголов не несовершенного, а совершенного вида. Указанный в нашей таблице общий объем памятников дает хорошее представление о том, какие массивы материала ему было необходимо для этого проработать. (Напомним, что он еще должен был попасть в этих своих занятиях на нужные рукописи; в частности, в церковных памятниках – а их в его распоряжении явно было более всех прочих – он не нашел бы на этом пути ничего.)
Далее он должен был открыть, что эти исключения носят не чисто формальный характер, а передают некоторый особый, весьма тонкий оттенок значения, например, понять, что вложаху и влагаху означают не в точности то же самое, и установить, в чем состоит различие. И только после всего этого он смог бы правильно образовать и в правильном соответствии со смыслом употребить в своем сочинении те пять словоформ, которые мы обсуждаем.
И все это ему предстояло сделать в эпоху, когда историческая лингвистика еще не родилась. Полагаю, что нет сомнений в том, как следует оценить способности такого человека.
Что же касается предположения о прямой интуитивной имитации, без лингвистического анализа, то, по-видимому, достаточно просто напомнить, что ни одна из словоформ имперфекта совершенного вида, представленных в СПИ, не встречается в готовом виде более нигде.