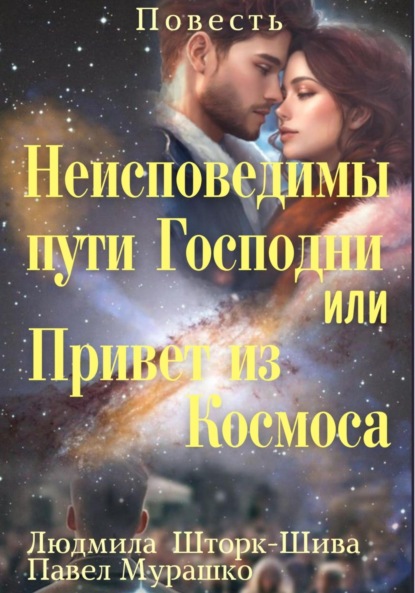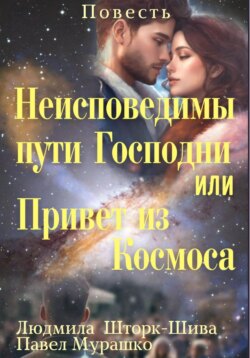
000
ОтложитьЧитал
Часть 1
Привет из Космоса
Черная лента дороги стремительно летела под колеса «трака», наматывая бесконечные мили на счетчик спидометра. Крупные руки спокойно лежали на руле, уверенно справляясь с привычной работой. Мужчина был опытным трак-драйвером, водителем сорока тонного «длинномера», и уже не один десяток лет колесил по дорогам Америки.
«Отмеренных спидометром миль хватило бы, чтобы не один раз опоясать наш «земной шарик», если бы существовала такая мерная лента» – усмехнулся про себя мужчина.
Ему недавно «стукнуло» шестьдесят лет, и это были хорошие годы. Голубые с улыбчивым прищуром глаза по прежнему оставались ясными, а чистый высокий лоб все также украшала пышная шевелюра вьющихся волос. Лишь виски слегка «припорошило» сединой.
Только вот так, в одиночестве коротая часы, он все чаще погружался в прошлое. Перед мысленным взором вставали лица уже ушедших из жизни родителей, картины детства,отрочества, непростой юности и полной труда и благословений зрелости. Почему-то именно в труде, проблемах и даже страхе за жизнь, особенно видна была рука Бога, проведшего его семью через все эти непростые десятилетия.
1Таким же удивительным образом Бог провел и семью его жены, проведя их своим уникальным путем. И только с годами, когда Бог соединил их судьбы, супруги смогли увидеть удивительное водительство Творца.1
«Почему же нас, людей, нужно поставить на край бездны, к пропасти, не дне которой мы видим свою смерть, для того, чтобы мы острее почувствовали радость мирной и спокойной жизни? Что с нами такое?! Ведь можно же просто благодарить Бога за то, что сегодня ничего не случилось? Но, наверное ценность покоя мы начинаем ощущать лишь с годами, устав от перемен и стрессов, – думал он. – И все же что-то есть особенное, когда оказавшись на грани жизни и смерти, и получив избавление, вдруг совсем иначе видишь и ценишь свою жизнь и людей, что тебя окружают. Острее ощущаешь вкус жизни!»
Ловя себя на воспоминаниях, губы мужчины трогала улыбка:
«Старею…» – отчего-то непривычно смущаясь, думал он.
«Мне говорят, живи как все,
Все так сейчас живут»
«А я и так живу как все
Когда-то будут жить…»
/Павел Мурашко/
Глава 1
Толик с детства был очень старательным и исполнительным мальчиком. Он очень старался хорошо понять, чего от него хотели взрослые и с точностью выполнить задание. Поэтому он был успешным учеником. Мальчик рос в христианской семье и всегда хотел делать все насколько возможно правильнее. Он не помнил, кто объяснил ему буквы, но складывать их в слова он научился сам.
В пять лет он сам научился читать, а в шесть читал все, что видел – вывески на улицах, случайно попавшуюся на глаза газету. Особой притягательностью для него обладали книги. Толик не пугался толстых книг без картинок. Они казались мальчику кладезем нераскрытых тайн. Увидев объемный переплет, мальчик затаив дыхание разглядывал его, пытаясь представить, о чем эта книга может рассказать? Сколько приключений спрятаны за её обложкой?
И Бог приготовил для Толика свой путь. В школу мальчик пошел в шесть лет, и если забыть о водительстве Божием, то это можно было назвать случайностью.
Учительница младших классов, которая считалась лучшей не только в районной школе, но и во всем городе, сама ходила по участку, прикрепленному к их школе и набирала себе в класс учеников. В семье Белкиных по ее списку, в первый класс должен был пойти старший брат Толика – Семен. Но когда женщина пришла, Толик выбежал ей навстречу и внимательно посмотрел на гостью:
– Здравствуйте! А вы много книжек прочитали? – пытливо заглянул он ей в глаза.
– Ну, наверное не мало, – улыбнулась Мария Николаевна.
– И теперь вы все-все знаете? – продолжал выпытывать мальчик.
– Ну, конечно, не все, но, стараюсь не отставать от времени, – улыбнулась женщина. – А ты умеешь читать?
– Ага! И я все-все книжки прочитаю и буду знать все ! – уверенно заявил мальчик.
Мария Николаевна протянула малышу газету:
– Прочитай здесь то, что сможешь – попросила она.
Толик взял газету, и к удивлению учительницы, начал довольно бегло читать не только заголовки, но и статьи, написанные мелким шрифтом, затем сообщил:
– В газете не так интересно. Там все про скучное пишут.
– А ты хочешь пойти в школу? – поинтересовалась Мария Николаевна. – Если ты в этом году пойдешь в школу, тогда я буду тебя учить.
– А у вас есть интересные книжки? – уточнил мальчик.
– Да, конечно! Целая школьная библиотека, – уверенно сказала учительница.
– Вы мне нравитесь, – деловито заявил Толик. – Тогда я пойду в школу. И в библиотеку пойду, раз там много книжек.
Выяснилось, что Семен, из-за которого учительница пришла в дом, уже закончил первый класс, женщине дали не верную информацию. Но она не пожалела, что посетила Белкиных. Способный и любознательный мальчик ей понравился.
И первого сентября нарядный Толик переступал порог школы, надеясь прочитать все интересные книги мира. Мальчик уже выяснил, что существует немало печатной информации, которая казалась ему совсем не интересной, и он учился самостоятельно выбирать.
Добрая и умная Павлова Мария Николаевна готова была помочь мальчику, не ломая его личности. Она хорошо относилась к верующим и всегда была добра с детьми. С первой учительницей Толика свяжут только добрые воспоминания. Прибегая в класс, мальчик усаживался за первую парту, стараясь занять место поближе к учителю, ведь тогда он не упускал ничего из знаний, которые она предлагала и никто его не отвлекал.
Первая учительница Толика имела немало наград как лучший учитель года и много других медалей. Первую медаль она получила как «Заслуженный учитель РСФСР», когда она жила на территории России.
Женщина работала в начальной школе, но считалась ведущим учителем школы. Она умела заинтересовать ребят учебой, пробудить в них жажду знаний. Толик был очень рад, что попал в ее класс.
Первые годы мальчик бежал в школу не потому что «надо», а потому что так хотел, и он никогда не торопился домой, хотя и слишком долго не задерживался, ведь дома было много работы и родители ждали от детей помощи.
После перехода в среднюю школу, у ребят появился классный руководитель, и «предметники» – учителя по различным предметам. Классный руководитель Толика не могла смириться с тем, что успешный и талантливый мальчик посещает собрания «сектантов» и верит в Бога. Она приняла твёрдое решение переубедить его, сделав атеистом и планомерно двигалась к этой цели. Женщина знала страсть Толика к чтению, а также ценила его способности декламировать стихи, и поэтому всегда давала ему для заучивания стихи или патриотического содержания, или что-нибудь против религии.
После школы детей семьи Белкиных всегда ждала работа. Отец с матерью выращивали на огороде в парниках рассаду и продавали ее на рынке. Позже, когда начинали созревать ранние огурцы и помидоры, их также отправляли на рынок.
В семье дети с рождения слышали два языка: немецкий и русский, хотя по-немецки детей не заставляли говорить, ведь в СССР русский язык не только был превалирующим, но также любые другие наречия и языки подавлялись и над детьми, говорящими на родном языке нередко смеялись и издевались.
Дети жили и учились в Казахстане, но большая часть казахских детей, проживающих в городе даже не знали родного языка, потому что это считалось позорным.
– Ты дерёвня! – смеялись одноклассники, услышав от казахского ребенка его родную речь, – все нормальные городские говорят по-русски!
И учителя не только не ругали смеющихся, но сами поддерживали их. И дети постепенно начинали стесняться родного языка.
Агнес не хотела усложнять жизнь своим детям, поэтому, хоть иногда и говорила с ними по-немецки, но не учила детей второму родному языку.
Мать Белкиных, Агнес, оказалась со своей семьей в Казахстане во время войны, когда Сталин высылал немцев подальше от линии фронта, опасаясь, что те примкнут к Германии в войне против Советского Союза. Немцам давали на сборы очень короткое время. У них отнимали дома и все, что они не могли взять с собой в узлы. Их привозили в Сибирь и Казахстан зимой, выгружали посреди голой степи, в метели и мороз. Не всегда им предоставляли даже наскоро сколоченные бараки. Немцам было запрещено покидать место высылки, и даже ходить в город.
Люди рыли землянки в мёрзлой земле, чтобы спасти детей от холода. Позже выжившие разошлись по близлежащим городам и большинство так и остались жить в той местности, куда их забросили. Одним было запрещено покидать место высылки на многие годы, другим просто уже некуда было ехать.
Агнес не знала своего отца, он умер, когда дети были еще совсем маленькими. Одни говорили, что его звали Абрам, другие называли Избрант. Но дети и многие внуки унаследовали живой ум, развитое воображение, практическую хватку и способность быстро адаптироваться к неожиданно изменившимся обстоятельствам, качества, которыми обычно, стабильные и размеренные немцы, чаще всего, не отличались. Поэтому у некоторых возникали серьезные сомнения в том, что отец Агнес был немцем. Но доказать никто ничего не мог, а домыслы так и остались на уровне неясных слухов.
Как семье врага народа, им не полагалось хлебных карточек, и они не имели права устроиться на работу. Поэтому всей семье приходилось перебиваться временными заработками. Старшие сестры Агнес умели шить и этим зарабатывали на хлеб. Мать умерла рано и старшим девочкам не удавалось прокормить всех. Младших пришлось отдавать в разные семьи, где они делали посильную работу за еду. Чаще всего приходилось присматривать за хозяйскими детьми.
Иногда, беседуя с сестрами, Агнес спрашивала об отце.
– А какой он был, наш папа? – поинтересовалась как-то Ангес у старшей сестры.
– Я и сама не помню, – ответила та. – Да и какая разница? Ты есть, живая, значит он был. Если бы не было отца, то и тебя бы не было.
На немцах в Советском Союзе всегда было клеймо «фашистов». Почти всех мужчин отправляли в «трудармию». Это место отличалось от концлагеря только тем, что им разрешено было уходить после работы ночевать к семьям. Все остальные правила были такими же как в концентрационном лагере. Работали под охраной НКВД, за еду. За малейшую провинность без суда и следствия отправляли в ГУЛАГ или другой лагерь, откуда мало кто возвращался.
Отец семьи Белкиных, Максим, также был из семьи «врага народа». Дедушку забрали в тридцать седьмом году, и он не вернулся. Его расстреляли 21 января тысяча девятьсот тридцать восьмого года по решению «тройки НКВД». Власти употребляли решение всего трёх представителей НКВД (народный комиссариат внутренних дел), вместо суда и следствия.
Эти люди могли придумать любое обвинение и расстрелять только потому, что они так договорились сделать. Власти того времени легко осуждали и убивали людей, быстро забывая их имена и прощая себе всё.
Во время ареста отца семьи Белкиных, они жили на Алтае.
«Черный воронок», которого боялись все в СССР того времени подъехал к воротам дома. Отца схватили молча, не предъявляя никаких обвинений и не потрудившись объяснить причину.
– Скажите, что я сделал? – с удивлением и страхом спросил молодой мужчина.
– В участке объяснят, коротко ответил старший.
– Позвольте хоть с детьми и женой попрощаться.
– Прощайся, – буркнул мужчина в черной «кожанке», положив ладонь на кобуру.
Сейчас револьвер покоился в кобуре, но милиционер готов был выхватить его в любую секунду при малейшем неповиновении.
Молодая жена сунула мужу скромный сверток, в котором была чистая рубаха, теплые носки, немного отварной «картошки в мундире» и пара отваренных яиц. Она не знала, увидит ли еще хоть когда-нибудь своего любимого мужа или это из последнее расставание? Дети сидели тихо в углу, прижавшись в страхе друг ко другу. Когда отец распахнул объятия для них, малыши с ревом бросились к нему. Они не понимали, что больше никогда не увидят своего отца. Им просто было страшно от того, что злые чужие мужчины ворвались в их дом и хозяйничают. А их сильный папа почему-то не защищает ни свою семью ни свой дом. И дети поняли, что это означает одно – злые дядьки – сильнее их папы. А от этого становилось еще страшнее.
– Заткните сосунков! – угрожающе приказал старший.
Отец взял ревущего малыша на руки и крепко прижал к себе.
– Тише, малыш. Ты – мужчина и должен беречь твою маму, понял?
– Угу, – мальчик замолчал, всхлипнул и стал тереть глаза кулачками.
В доме воцарилась тягостная тишина. Прощались молча, боясь даже вздохнуть громче приказанного.
Скоро дверца «воронка» захлопнулась за отцом и мужем. Люди, живущие рядом, в страхе задернувшие шторы на окнах своих домов, тихонько поглядывали в щелочки на то, как увозят их соседа.
Как и всегда, после ареста кормильца, его семья была объявлена «семьей врага народа» и обречена на вымирание.
Немного позже арестовали его брата, и также расстреляли по осуждению «тройки НКВД». Семья получила статус «ЧС» – член семьи врага народа. В СССР этот статус означал то же самое, что значила шестиконечная звезда на одежде евреев при Гитлере. Люди не имели никаких прав, не могли устроиться на нормальную работу, за малейшую провинность – арест и ссылка.
Мать с детьми приняла решение уезжать, бросив дом. Женщина знала, что промедление может быть опасно тем, что их заставят отмечаться по месту жительства, и тогда выезд в любой город страны будет считаться побегом.
В Казахстане жило очень много «неблагонадежных» и среди них легче было затеряться.
И лишь в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом году братьев посмертно реабилитировали по решению военного трибунала СибВО (сибирского военного округа). А в две тысячи первом году Серафима и Никиту Белкиных внесли в «Книгу жертв политического террора».
Имена части людей, ставших жертвами советской власти, родные и близкие смогли сообщить и их внесли в «Книгу памяти….», но очень многие канули в небытие, так и затерявшись в застенках обладателей кроваво – красного знамени.
В Казахстане мать Максима смогла устроиться швеёй. Она шила тюремную и солдатскую одежду. Максим был тогда еще грудным ребенком и спал рядом с матерью. Женщине разрешили держать ребенка рядом с собой при условии, если она будет выполнять норму. Родные подшучивали над ним:
– Максиму для сна не нужны тишина или покой вокруг, он может спать везде и при любом шуме. Он же в младенчестве спал в цехе под шум многих швейных машинок.
Все дети не понаслышке знали, что такое голод. Семья переехала в Казахстан, мечтая затеряться среди прочих «неблагонадежных», а еще надеясь, что там теплее, и легче будет прокормиться. Но денег на корову у них не было, и очень скоро выяснилось, что без «коровы-кормилицы» в Казахстане почти такой же голод, как и в Сибири.
Агнес и Максим испытали голод и холод и поэтому, как только у них появилась возможность зарабатывать на жизнь, они очень много трудились. Создав семью, Агнес и Максим работали не покладая рук, чтобы их дети не знали чувства, когда тебе снится краюха хлеба, а желудок сводит голодными спазмами.
Скопив небольшую сумму денег на покупку дома, Максим отправился на поиски, ведь на аренду даже маленькой комнатки уходили средства, так необходимые для семьи.
Молодой мужчина согласился купить старенький дом у знакомых, владельцы которого никак не могли избавиться от крупных тараканов. Чем только ни травили насекомых, ничего не помогало! Хозяевам приходилось по очереди вставать по ночам с тапочкой и веником, но насекомых не становилось меньше.
Максим согласился взять дом ради низкой цены, но подошел к делу основательно. Он разобрал старое строение до основания, отобрал строительные материалы, пригодные для нового дома, а остальное облил керосином и сжег. В новом доме Белкины никогда не видели этих насекомых. Дети даже не знали, как выглядит таракан.
Супруги работали с утра до вечера. Трудное детство и перенесенный голод давали о себе знать. Забота о пропитании, одежде и доме казалась для них самым главным в жизни. Нередко они забывали не только порадовать друг друга, но и оказать необходимое внимание и заботу. Они не замечали, что работа и деньги стали для обоих важнее улыбок любимого человека. И это не могло не повлиять на будущее их семьи. Ведь человеческое сердце не может жить без тепла и нежности близких людей.
Глава 2
Дом стоял на косогоре, и поэтому со стороны улицы он казался одноэтажным, но из огорода было видно полуподвальное помещение, в котором одну комнату оборудовали под жильё, а оставшуюся площадь использовали в качестве подвала.
С первого этажа в полуподвал вел люк. В начале первую комнату нижнего этажа задумывали погребом, но позже решили сделать его жилой комнатой, которая оказалась достаточно уютной. Из нее дверь вела в другие помещения, откуда был выход в огород. Поэтому полуподвал был с выходом на «просторы земледелия» летом, и с «видом на снег» – зимой.
Максим построил дом каркасно-камышитовым, достаточно теплым, и семья не боялась морозов.
Ворота находились напротив большого углубления на дороге и большую часть года в этом углублении находилась лужа. Машины, проезжая, обливали ворота грязной водой. И сколько ни пытались Белкины красить их, это помогало ненадолго. Построив новый дом, Максим с Агнес пригласили мать Максима жить с ними, предоставив ей комнату.
В школе, Толику нередко было скучно. В первый год он пришел в класс, бегло читая, почти как взрослый, а его одноклассники только учили алфавит. Позже он любил заранее читать темы, которые класс будет проходить, и тоже нередко скучал, пока другие пытались слушать учителя.
И все же школа не обманула ожиданий мальчика, в библиотеке действительно было много книг. Дома у ребят было не много времени читать, так как работы всегда хватало, но в школе можно было наверстать упущенное. Кроме того, мальчишка всегда радовался приходу зимы, когда в огороде не было работы, и это также было прекрасным временем для чтения.
Прочитав стихотворение А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд», Толик, вспоминая себя и братьев, невольно добавлял одно слово в текст:
«…Не пропадет ваш скорбный труд
И зимних дум высокое стремленье…»
«Потому что летом все равно нет ни сил, ни времени на высокие стремления или думы,», – резонно замечал мальчик.
Ранним утром, шагая в школу по скрипучему снегу, Толик заранее представлял, как спрячет книжку в парту и будет украдкой читать ее, пока другие ученики тренируются в прочтении самых простых и небольших по объёму текстов.
Толик не мог себе представить, что должно произойти, чтобы он не пошел в школу? Он бежал в нее даже с температурой и кашлем, больной или здоровый. Мальчик отказывался даже представить себе ситуацию, что он не пойдёт в школу. И мороз, пощипывающий щеки и нос никогда не мог испугать мальчика.
****
Но зима заканчивалась. Несмотря на радость от теплого солнышка, Толик не любил весну. Ведь с первыми побегами травы, начиналась ежедневная нелегкая работа без выходных, праздников или отгулов. Даже болезнь не считалась достаточно весомой причиной, если не была очень тяжелой.
Возвращаясь из школы в теплые весенние деньки, Толик очень хотел радоваться ясному солнышку и голубому небу, но мысль о том, что сейчас придется быстро обедать, переодеваться и идти на огород, гасила всю весеннюю радость.
Участок земли у дома был большим, и на нем всем хватало работы. Родители выращивали рассаду в парниках, затем продавали ее на рынке. Старшие дети почти с пеленок получали посильную часть труда на этой «плантации». Поэтому даже в шесть лет Толик прекрасно знал, что нужно делать с парниками.
– Мальчики, быстренько обедать и к отцу на огород. Он уже копает ямы под грядки. – Сообщала мать, и у ребят даже мысли не возникало усомниться в том, что нужно послушаться.
– Хорошо, мам, – «рапортовали» братья, обедали и шли к отцу.
– Наверное Семен с Толиком забрали себе всю мою немецкую последовательность и пунктуальность, – шутила иногда Агнес. – Но зато я точно знаю, что могу положиться на каждого из них. Они всегда выполнят порученное качественно и вовремя.
В огороде «мужчины» копали квадратные углубления по размеру грядок. Затем отец открывал большую яму с мякиной (чешуйки от пшеницы после молотьбы), несколько машин которой он каждый год заказывал еще с осени, и с помощью детей загружал в большие ямы.
Осенью отец заказывал машины с мякиной , которую покупал на элеваторе. После того, как ребята помогали отцу выкопать глубокие ямы в земле, они переносили мякину из кучи во дворе, которую выгружал самосвал.
Носить мякину носилками было легко и весело. Заполнив глубокие ямы, ребята иногда прыгали в них, проваливаясь в мякину, смеясь и отплевываясь. Любовь к прыжкам с высоты так и осталась у братьев, не исчезнув с возрастом.
Теперь весной, нужно было подготовить углубления под грядками и разнести мякину по огороду, прикрыв землей.
На зиму большие ямы закрывали, и весной, приоткрыв пленку, закрывающую мякину, пускали в отверстие кошку. За зиму в теплой сухой мякине плодились мыши в большом количестве. И попав в яму, кошка не знала, какую из множества мышей ловить первой?
– Пап, наверное кошка думает, что попала в рай? – поинтересовался однажды Толик, когда отец отправил кошку в яму с мышами.
– Не знаю, – улыбнулся Максим, – я не был в ее голове.
Мужчина всегда был немногословен, но очень любил детей.
Третий сын – Кирилл тоже участвовал в работе, но он пока не многое мог сделать, а средняя Алиса, родившись первой девочкой после трех ребят, получила очень много привилегий «с пеленок». Девочка даже подростком любила повторять:
– Я же маленькая и – девочка!
Весной, выкопав ямы поменьше по размеру грядок, отец с сыновьями должны были разнести мякину по огороду и засыпать в них. Затем они обильно поливали ее водой, засыпали мягкую труху слоем земли и сеяли в землю сначала редис, закрыв грядку сверху застекленными рамами. Мякина, начинала преть от попавшей в нее воды, выделяла тепло и этим согревала посеянные семена. На ночь, поверх рам, осторожно, чтобы не разбить стекла, укладывались соломенные тюфяки, затем все сооружение покрывали пленкой от холодного дождя или возможного снега.
Утром, еще до школы, мальчики должны были открыть парник, чтобы на растения попадало весеннее солнышко, и только потом они шли завтракать и собираться в школу. Вечером парники опять закрывали, прижимая пленку палками или кирпичами, чтобы ветер не унес ее. В холодные дни рамы не открывали, снимая с них только соломенные тюфяки. Но когда солнышко припекало, ребята снимали рамы, чтобы растения могли получить все солнечное тепло и свет.
Обычно ребята привычно делали ежедневную работу, но бывало, что отвлекались и забывали закрыть теплицы на ночь. Тогда бабушка сама шла в огород и закрывала их. Но после этого мать ругала ребят и стыдила их за то, что пожилая женщина вынуждена была делать их работу.
Когда вырастала редиска, ее вырывали, промывали и отправляли на базар. Позже поднималась рассада огурцов и помидор. Большую часть рассады также отправляли на рынок. Редиску и рассаду помидор и огурцов, продавали за копейки. Но, продав рассаду, хозяева высаживали на те же грядки огурцы и помидоры, и когда вырастали и созревали эти овощи, заработок был больше. Огород не позволял сделать себе выходной или «взять отгул», но исправно кормил и одевал всю немаленькую семью.
Однажды утром мальчики были разбужены слёзными причитаниями бабушки:
– Что же теперь делать?! Господи! На что мы будем жить до лета?! Что за безответственные мальчишки! И как же я вчера вечером не проверила!
Толик с Семеном попытались закрыть головы одеялом. Они сразу вспомнили, что вчера забыли закрыть парники, и мороз, похоже, не пощадил растения.
– Не повезло – тихо пробурчал Семен.
– Во попали, – также тихо отозвался Толик.
Отца в этот момент не оказалось дома, и мать с утра дала ремня обоим ребятам. Но это была лишь «наука на будущее» – вся рассада лежала на земле, побитая морозом. Наказание не могло исправить того, что произошло.
У ребят в голове еще не до конца сформировалась связь между этими зелеными росточками, лежащими на земле, и пищей на их столе до самого лета, но бабушка прекрасно осознавала эту зависимость, и пожилая женщина упала на колени.
– Господи, помилуй нас и прости за безалаберность наших детей! – заплакала она. – Пошли нам пропитание на этот сезон! Ты же знаешь, что нам так нужен этот заработок!
Мальчики, виновато склонив головы, опустились на колени рядом с бабушкой. И даже наказание ремнем не изменило их желание молиться Богу о милости. Они тоже очень хотели бы исправить свою оплошность, но не могли и поэтому все вместе просили чуда.
После молитвы ребята ушли в школу, но сегодня учебный материал плохо усваивался. Они не могли забыть слёзы бабушки и ее слова. Ребята впервые до конца осознали связь парников в огороде и ежедневной пищей на столе, одеждой и обувью.
Возвращаясь домой, братья рассуждали.
– Раз у нас не будет денег на одежду, тогда я в старых сандалиях ходить буду в это лето, – решил Семен.
– Но они же тебе уже маленькие – напомнил Толик, – их все равно мама мне отдаст.
– Ну тогда я сам себе сошью из старых башмаков, – придумал Семен. – Возьму подошву, а сверху веревкой завяжу.
Когда мальчики вошли в дом, то были удивлены прекрасному настроению бабушки. Она подметала пол и что-то напевала себе под нос. Так она делала только в самое лучшее время.
– Ба, а почему ты поёшь? – поинтересовался Сёма.
– Так как же мне не петь, если Бог чудо совершил?! – сообщила улыбающаяся женщина, – вся рассада поднялась!
– Да ты что?! – в голос воскликнули ребята и не переодеваясь, побежали на огород, смотреть на растения.
Действительно, все ростки помидор дружно поднялись навстречу солнышку и только пара нижних листочков безжизненно висела вдоль ствола. Больше ребята никогда не забывали закрывать парники на ночь. «Воскресшую» рассаду на рынке раскупили в первую очередь, ведь она считалась «закаленной» и особо жизнестойкой.
На следующее утро ребята бежали в школу, весело насвистывая. Солнышко чуть золотило крыши соседних домов, вокруг заливались птицы и на душе у ребят было светло. Бог совершил настоящее чудо и сейчас Его присутствие казалось таким очевидным и ясным!
Ребята радовались тому, что полдня могут «отдохнуть» в школе за книжками или бегая с ребятами на переменах. Возвращение домой воспринималось как выход на тяжелую работу, потому что на дворе была весна.
Они не задумывались о том, что многие люди совсем иначе относятся к окончанию зимы. Иногда Толику казалось, что весенняя радость, описанная в книжках больше похожа на сказку – красивая, но почти нереальная.
И все же душа Толика была очень чувствительна красоте не только в стихах и прозе. Он очень любил природу. Обычно в школу дети шли вместе, но возвращались в разное время и Толик шел, рассматривая игру солнечных зайчиков на домах и заборах, слушая шум ветра в ветках деревьев и нередко беспричинно улыбался только потому, что видел во всем окружающем мире творческую руку Бога.
Мальчик очень любил свою улицу, утопавшую в роскошных кустах сирени, что дружно зацветала в середине мая, незадолго перед началом летних каникул. Он смотрел на палисадник одних соседей, где покачивались ветки белой сирени, или вдыхал запах светло-сиреневых кустов проходя мимо другого забора, улыбался темным цветам, роскошной колерованной сирени в глубине сада третьих. У всех соседей она была разной, но ее запах упоительно наполнял воздух всего района, радуя людей и насекомых.
Иногда мальчик забывал о том, что нужно спешить домой и останавливался, чтобы понаблюдать за красивой бабочкой, перелетающей с одного цветка на другой, или пытаясь поймать в ладошку «музыканта» – насекомое, немного похожее на пчелу. Пойманный «музыкант» тихонько жужжал в ладошке, пытаясь вырваться на свободу. Всегда был риск ошибиться и поймать пчелу, которая могла ужалить. И это было особым, личным знанием – умение различить этих двух насекомых.
Все ребята улицы любили выбирать на кустах цветки с пятью или шестью лепесточками. Это было огромное удовольствие, разглядывая четырехлепестковые цветки, найти необычные.
– Если загадаешь желание, а потом съешь такой цветок, то все обязательно сбудется, – учили соседские ребята.
Толик не раз загадывал желание и съедал цветок, но ни разу мечта не сбылась. В основном мальчик мечтал, чтобы его родители придумали какой-нибудь другой способ заработка, вместо теплиц. Но все продолжалось как всегда. Сирень отцветала и мечта оставалась лишь мечтой.
Конечно, отец работал на производстве. Ведь в противном случае его могли посадить в тюрьму за тунеядство. Но он просто брал дежурство, и уходил из дома на сутки, затем мог три дня работать на огороде, и продавать плоды на рынке.
По пути из школы домой, мальчик старался не думать о том, что его ждет. Самое большое счастье человек испытывает тогда, когда он может полностью насладиться данным моментом, даже если это совсем короткий миг. И оказавшись в том самом миге «здесь и сейчас», слушая попискивание «музыканта» в ладошке, глядя на синее небо с барашками облачков, Толик ощущал себя очень счастливым. Затем был следующий миг счастья, когда он открывал кулачок и насекомое, сначала боясь поверить своей вновь обретенной свободе, ошеломленно сидело несколько секунд, а затем поднималось в воздух, скрываясь на фоне небесной синевы.
Сегодня получилось найти «божию коровку» и подставив ей пальчик, смотреть как она заползает на руку. Лапки насекомого смешно щекотали кожу, а Толик тихо приговаривал, как научили его ребята:
– Божия коровка, улети на небко, там твои детки, кушают котлетки, – шептал мальчик, – всем по одной, а тебе даже две.4
Стоило произнести «кодовое слово» «котлетки», как живот мальчика предательски заурчал, сообщая, что уже пора пообедать. Конечно, такая «роскошь» как котлетки, вряд ли ждёт дома, но тарелка супа с хлебом, скорее всего уже ожидает. И мальчик, позволив насекомому взлететь с кончика его пальца, не пошел, а побежал домой. Мысль о горячем супчике с хлебом заставила забыть огорчение от того, что сразу после этого нужно будет идти в огород и отец будет ругать сына, даже если тот остановится только для того, чтобы послушать песню скворца.
– И чего ты там нового услышал? – не мог понять мужчина, – он каждый день поёт. Ты давай, не ленись, а то до вечера не успеем закончить.
Выкопав и распродав рассаду, нельзя было расслабляться, ведь теперь грядки нужно было готовить к тому, чтобы на них высаживать рассаду огурцов и помидор, на своем огороде, которые также предназначались для продажи. Часть рассады Белкины оставляли себе. День, когда нужно было высадить растения, знали «особые специалисты». Один из братьев по вере – Мережко Владислав Сергеевич считался знатоком времени посадки. Но он воспринимал окружающих огородников как конкурентов, и поэтому никогда не делился своими секретами.