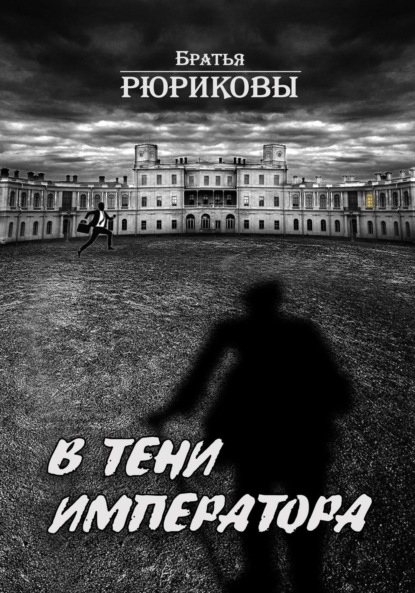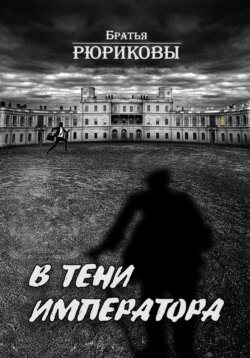
000
ОтложитьЧитал
Часть первая. Плут
В ночь с 7 на 8 марта районный центр Петровск жил привычной сонной жизнью. Дремали все тридцать три бронзовых Петра. Петра Первого – основателя города. Ничто не предвещало беды.
Ровно в полночь в родильном доме № 2 тишину нарушил громкий победный крик. На свет появился мальчик. Принимавшие роды три женщины, словно добрые феи, склонились над младенцем. Внезапно дитя широко улыбнулось, показав острые зубки.
– Ничего себе чудо морское, – сказала самая старшая, врач Вера Павловна, и перекрестилась.
– Этот откусит свой кусок пирога, – добавила обстоятельная медсестра Надежда.
– Богатым будет. Какой мужик кому-то достанется, – завистливо прошептала практикантка Любочка.
– И глазки, как у нашего первого. Синие-синие… – словно припоминая что-то, заключила Вера Павловна.
«Первым» в Петровске называли первого секретаря райкома партии Ивана Михайловича Петрушина.
Мальчик родился в самой обычной семье. Отец ребенка, Иван Никифорович Солнцедаров, окончил местное ПТУ, трудился на комбинате бытового обслуживания. Из тех, кого называют «мастер золотые руки». Любимец окрестных пенсионерок, безотказный, он чинил всё, что ломалось (от утюга и кастрюли до телевизора). Зарабатывал хорошо. В общем, человек положительный, незаменимый не только на работе, но и на любых культурных мероприятиях. На свадьбах, юбилеях, днях рождения его гитара звучала по-особенному проникновенно.
Роста невеликого, неказистый, но что поражало в его облике – это необыкновенной синевы глаза, в которые заглядывались местные красавицы разного возраста.
Мама мальчика, Мария Антоновна, заведовала столовой. Железной рукой управляла она и коллективом, и супругом. В почти столичный Петровск судьба забросила ее из тихого провинциального городка. И не только судьба…
Но перенесемся на пять лет назад в этот провинциальный городок Псковской области, который так и назывался: Городок.
Ивана Михайловича Петрушина, занимавшего тогда ответственный пост в Петровском райкоме комсомола, руководство направило в Городок – там проходила важная конференция.
И вот после заседаний, знакомства с достопримечательностями, выполнив всё запланированное, комсомольский лидер готовился к отъезду домой. До отправления автобуса оставалось немного времени, и Иван решил подкрепиться.
Искать приличную точку общепита было некогда, и тут перед глазами Петрушина, словно яркая вспышка, возникла вывеска «БУФЕТ». В сознании огнем полыхнули слова: Мене, Текел, Фарес.
Для читателей, возможно, не столь образованных, как наш герой-комсомолец, поясним, что эти слова, согласно ветхозаветной Книге пророка Даниила, были начертаны таинственной рукой на стене во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук персидского правителя Кира. В вольном переводе слова означают: Взвешен, Исчислен, Оценен. И это не предвещало ничего хорошего.
Но судьба толкнула мужчину в спину, и он толкнул дверь буфета. Тонкое обоняние зафиксировало: пиво, квашеная капуста, жареные котлеты. Всё это тонуло в клубах табачного дыма. Публика оказалась соответствующая: здоровенные мужики (очевидно, водители), потертые личности неопределенного возраста и профессий и несколько приличного вида пассажиров, тревожно озирающихся по сторонам.
У Ивана Михайловича пропал аппетит, и он уже собрался покинуть заведение, как из клубов дыма, словно из тумана, появилась она! В голове зазвучали стихи:
И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами…
Отметим, что Петрушин был большим любителем искусства. В живописи больше всего ценил Ренуара, Тициана, Кустодиева. Нетрудно догадаться, что он, невысокий, субтильный, женщин предпочитал крупных, с пышными формами. И чтобы всё радовало глаз: высокая грудь, тонкая талия, тяжелые бедра. Не девяносто–шестьдесят–девяносто, а, пожалуй, сто двадцать–шестьдесят–сто двадцать. Поэтому, когда Иван увидел девушку с подносом, в легком сарафане, по его телу пробежала дрожь: «Это же кустодиевская Венера!»
Всё в ней соответствовало вкусу ценителя женской красоты. Даже простое лицо с грубоватыми чертами не портило впечатления.
«Вылитый Тихонов… – подумала девушка. – И глаза такие же синие!»
Фотографии известного киноактера Вячеслава Тихонова из художественного фильма «Мичман Панин» висели дома над ее кроватью.
Подавая салат из огурцов, девушка склонилась над симпатичным посетителем, ощутив непривычный запах, очевидно, дорогого одеколона: «Пахнет-то как! Не то что наши…»
Под «нашими» юная Мария подразумевала завсегдатаев буфета. А еще она обратила внимание на тонкие музыкальные пальцы: «Не то что лапищи у наших…»
Не будем описывать дальнейшее – всё произошло словно само собой. Они встретились в тот же вечер. Руки интеллигентного молодого человека оказались ласковыми и неожиданно сильными. Ничто не могло остановить всепоглощающую страсть. Даже обручальное кольцо на пальце заезжего принца.
В тот вечер Иван Петрушин на автобус не попал.
Спустя несколько месяцев восемнадцатилетняя Маша Ефимова оказалась в Петровске. В небольшой комнатке малонаселенной коммунальной квартиры. Из старой жизни сюда она перевезла только фотографии любимых артистов и книги о путешествиях, которыми зачитывалась с детства. С жильем помог обожаемый Иван Михайлович. Он же устроил на работу.
Используя свои связи, Иван Петрушин, теперь уже первый секретарь райкома комсомола (культурный, образованный, любимец партийного руководства), карьеру делал быстро.
Он был женат. Супруга, натура изысканная, играла на скрипке в оркестре одного из известных Ленинградских театров. Могла рассуждать на любые темы и полностью соответствовала культурным запросам мужа. Особой красотой не отличалась – в профиль напоминала беззащитного вороненка. Ее худоба не вполне отвечала тайным вкусам Ивана, но в выборе спутницы жизни главное достоинство невесты перевесило всё остальное: она была единственной дочерью очень влиятельного человека.
Нетрудно представить себе состояние, в котором оказались Иван Михайлович и Маша. Оба получили то, о чем мечтали: он стал обладателем настоящего осязаемого сокровища, ее девичьи грезы стали реальностью – принц на белом коне, своя комнатка с видом на море и работа по специальности рядом с домом – поваром в детском саду при самом богатом в городе заводе. И даже то, что видеться они могли лишь тайком и только в те вечера, когда законная супруга Ивана была занята в театре, не портило атмосферы радости и счастья.
Целый год продолжалась сказка. Но всё меньше времени оставалось у первого секретаря райкома комсомола на тайную личную жизнь. И, соответственно, всё больше свободных вечеров появлялось у Марии.
Однажды, глотая слезы, Иван Михайлович сообщил Маше, что при всем желании не сможет встретиться с ней ни в этот четверг, ни в следующий, ни, возможно, через месяц. Его отправляют на учебу.
«Машенька, мне хотелось бы видеть тебя каждый день. Но развестись я не могу, ты же понимаешь. И терять я тебя не хочу, солнце мое! Но комсомольская совесть не дает мне права удерживать тебя, как жар-птицу в клетке. Это не значит, что я ухожу насовсем. Мы будем встречаться, если ты захочешь. Но ты свободна в принятии решений. Мы живем в самой свободной стране!» – не удержался Иван Михайлович от пропагандистского штампа.
Они проплакали вместе всю ночь…
В дальнейшем Иван Михайлович Петрушин, делающий успешную партийную карьеру, будет появляться на страницах нашего романа нечасто. А лишь тогда, когда развитие сюжета без его вмешательства окажется невозможным.
Мария горевала целый месяц. По вечерам смотрела в окно, как солнце тонет в волнах Финского залива, и представляла себе, как тонет она сама. Как плачет над ее телом обожаемый Иван Михайлович.
Она пыталась забыться, читая книги о путешествиях и приключениях. И даже дефицитный по тем временам телевизор марки «Заря» Ленинградского завода имени Козицкого, подаренный любимым, не приносил успокоения ее страдающей душе.
Однажды в субботу, не в силах оставаться одна, девушка решила прогуляться. Она шла по Петровскому бульвару. Без всякой цели. С опущенной головой.
Возникший перед ней бронзовый Пётр (один из тридцати трех монументов Великому императору, установленных в городе и играющих важную роль в нашем повествовании) изменил направление жизни Маши Ефимовой. Его рука указывала строго на юго-восток – там был парк. Именно оттуда доносились зажигательные звуки – оркестр исполнял модную песню «Черный кот». Мария послушно двинулась в указанном направлении.
Танцплощадка встретила Машу как родную. Родным здесь было для нее всё: грохочущая музыка, раскрасневшиеся лица парней и девушек. И даже не самые приятные запахи пота, табачного дыма и дешевого портвейна не вызвали отторжения. Хотя Иван Михайлович и приучил Машу к более изысканным ароматам.
Девушка любила танцы. В родном Городке это было, пожалуй, главным развлечением по выходным. И свершилось чудо! Куда-то ушли тоска и уныние, словно оковы спали. Маша танцевала самозабвенно, чувствовала себя неотразимой. Кавалеры сменяли один другого, парни говорили ей какие-то слова, но все партнеры были словно на одно лицо. Девушка целиком отдалась танцу.
Так было до того момента, когда ее неожиданно легко подхватил и закружил невысокий паренек.
«С небольшой, но ухватистой силой, – мелькнуло есенинское в голове у Маши (она была девушкой начитанной). – А глаза-то, глаза! Господи, как у Ивана Михайловича. Синие-синие!»
– Ну что, будем знакомиться? Иван, – сказал парень, ослепительно улыбаясь, совсем как актер Пётр Олейников в фильме «Трактористы», и крепко прижал к себе.
– Мария, – прошептала она.
Остаток вечера Иван и Мария не расставались. И даже когда парень предложил выпить за знакомство, она не отказалась. Отлучившись на минутку, Иван вернулся с двумя гранеными стаканами и початой бутылкой, украшенной ярко-желтой этикеткой.
– «Солнцедар», – значительно произнес он. – А я – Солнцедаров! Это моя фамилия. Не последний человек в городе!
В Петровске было рабочее общежитие, в котором жили друзья Ивана. В любой момент они были готовы подставить плечо другу – уступить комнату.
Туда и привел Солнцедаров свою новую знакомую.
Удивительно, но то, что произошло с ней, Мария не ощущала как измену Ивану Михайловичу. «Сам виноват, – мстительно думала она, – оставил девушку одну».
Надо признать, что Иван Солнцедаров произвел на нее впечатление. Веселый, обходительный, ласковый, зарабатывает хорошо. И сила в нем чувствуется. Мужская. Посильнее будет, чем Иван Михайлович. И глаза! Вскоре Маша Ефимова стала Марией Солнцедаровой.
Иван Михайлович Петрушин воспринял новость как должное. Он был благородным человеком и даже оставил девушке все подарки, включая телевизор. Петрушин не хотел терять Машу окончательно. Конечно, он понимал, что девушка ему не ровня, его иногда коробили простота и некоторая вульгарность, полностью отказаться от Марии Петрушин не мог. Над здравым смыслом и комсомольской моралью торжествовали кустодиевские формы.
Не будем судить Машу за то, что впоследствии она уступала иногда страсти человека, который открыл перед ней новые возможности, изменил ее жизнь и помог материально.
А Иван Солнцедаров переехал к супруге. Со временем они сумели чудесным образом улучшить жилищные условия – стали полновластными хозяевами квартиры, заполучив вторую комнату.
Мария Антоновна за пять лет сделала карьеру: прошла путь от повара в детском садике до завпроизводством в столовой самого крупного завода в Петровске. Не без помощи Ивана Михайловича, теперь уже главного человека в городе – первого секретаря райкома КПСС.
А муж, Иван Солнцедаров, всё так же продолжал чинить, паять, ремонтировать… И беспрекословно подчинялся своей Марии, которая бранила его, когда он приходил с работы под градусом.
Дом их был полная чаша, вот только детей бог не дал. И даже всемогущий Петрушин помочь в этом вопросе не мог. Чего только не перепробовала Маша! Ездила к бабкам-целительницам, снадобья всякие пила, даже в церковь ходила (так, чтобы никто не видел, конечно). И вот как-то в июне, гуляя в сквере Юных Пионеров, куда она приходила частенько, Мария с грустью наблюдала за играющими детьми.
Наблюдал за детишками и бронзовый Пётр, изваянный местным скульптором Ханыгиным. Сидящий на гранитном валуне император был центром композиции. Его окружали бронзовые дети, все как один в пионерских галстуках. Скульптура называлась «Пётр Первый и дети».
«Батюшка, помоги!» – взмолилась молодая женщина.
Бронзовый истукан безмолвствовал. Тогда Мария подошла к памятнику, прижалась лбом к теплому плечу Петра и заплакала.
«Будет тебе мальчик», – послышалось ей.
Через девять месяцев Маша Солнцедарова родила сына Павлика. Радовались все: и Иван Никифорович Солнцедаров, и Иван Михайлович Петрушин, и, быть может, Пётр Алексеевич (памятник).
Будучи уже в зрелом возрасте, Павел Иванович Солнцедаров раннее детство свое вспомнить не мог. Неясно всплывали лишь отдельные образы и впечатления:
Вот мать дает ему сырник, политый сгущенкой.
Вот он с отцом сидит с удочками на берегу. Поймали они тогда что-нибудь или нет, он не помнит, но помнит залитую солнцем морскую гладь и запах влажных водорослей, выброшенных на берег.
Вот он уютно устроился на коленях у матери. Она излучает тепло и ласку, губы ее шевелятся – мама читает ему книгу.
Вот он следит за руками отца, которые разбирают-собирают какой-то непонятный предмет.
А вот руки дяденьки в шляпе. Они протягивают большое шоколадное мороженое. Рядом смеющаяся мама.
И неприятное – руки матери, такие ласковые обычно, бьют отца по лицу, а тот в ответ что-то мычит неразборчивое. И слова матери: «Алкаш проклятый».
Вот он катается в парке на новеньком трехколесном велосипеде. К нему подбегает девочка с огромным белым бантом.
– Мальчик, дай покататься, – просит она.
– Не дам, – отвечает он и мчится дальше.
Оглядывается на девочку, показывает ей язык и на всей скорости врезается во что-то твердое, громадное. Слезы, боль – кто посмел?
Сверху льется холодная вода. Он поднимает голову – на него гневно смотрит усатый гигант, в его руках корчится, извивается страшная змея. Из пасти змеи вырывается мощная струя.
Позже Павлик узнал, что этот памятник – главный в Петровске. И стоит он у главного в городе здания, в котором всегда находилась власть. А бронзовый гигант – основатель города Пётр Первый.
Еще позже Павел узнает, что скульптурная композиция эта олицетворяет собой борьбу со злом. Само собой, злом была змея. В разные времена зло видоизменялось. Это был и мировой империализм, и фашизм, и культ личности, и застой… Только в последние мгновения своей жизни Павел Иванович Солнцедаров поймет, что на самом деле бронзовый гигант расправлялся с самым страшным в России злом – с коррупцией.
К семи годам мальчик был, как говорилось в одном романе, «резов, но мил». От мамы он взял упорство и целеустремленность. От отца – синие глаза и способность мастерить, чинить и даже изобретать, не прилагая к этому особых усилий. Остальные достоинства, о которых речь пойдет позже, достались ему неизвестно от кого. Неисповедимы пути передачи дарований по наследству.
Детство Павлуши было вполне заурядным: переходил из класса в класс с хорошими оценками, вел себя примерно, не хулиганил. Имел, правда, одну особенность, за которую другого побили бы – он всегда старался быть на виду. Первым тянул руку на уроках, помогал педагогам донести журнал и тетради до учительской, ловко уходил от наказаний. Не попадался, когда другие попадались. Но Павлику всё прощали за веселый необидчивый характер. Мальчик не был жадным, угощал ребят конфетами. Доставались они совершенно случайно самым авторитетным одноклассникам, обладающим силой и влиянием. Конфеты давала мама, приговаривая: «Угощай ребят. Пригодится».
Павел рос мальчиком худеньким, особой силой не отличался. Зато здоровенные кулаки были у соседа по парте Миши Меньшикова, главного в классе хулигана. Они дружили. Мишка был, что называется, безотцовщина. Мать работала в школе уборщицей, семья жила бедно, и фундаментом дружбы Павлика и Мишани стали деньги. У Павлика они водились всегда, и он никогда не отказывал просьбам друга поделиться.
Как в каждом настоящем психологическом романе, авторы не могут обойтись без подробного описания среды, в которой формировалась личность героя. Начнем с описания города.
Именно на территории сегодняшнего Петровска царь Пётр повелел основать новую столицу, «ногою твердой стать при море», куда бы «по новым им волнам все страны в гости будут к нам». Дальше у поэта следовало: «И запируем на просторе».
По преданию, Пётр так запировал на взморье, что наутро начисто забыл о своем решении, и столица была построена в сотне верст отсюда – на непригодном для жизни болотистом месте. Утешением для позднейших обитателей этих краев стало присвоение городу, возникшему здесь позднее, имени Петра. Не Санкт-Петербург, но всё же.
Краеведы Петровска разделились на два лагеря. Одни видели в случившемся промысел божий, другие считали, что виной всему финский крестьянин – помните «приют убогого чухонца»? Крестьянин, ненавидевший российскую экспансию, преподнес царю-батюшке ведро белого вина с поклонами и западными расшаркиваниями. Напиток этот, сообщил он через толмача, обладает целебной силой, потому что настоян на местной траве кипрейке. И что человек, испивший вина, принимает только верные решения.
Финский националист, видимо, добавил в вино какой-то гадости, сбившей русского царя с верного пути. Однако местные жители с этим не смирились и утверждали, что Петровск и есть законная столица империи. В подтверждение тому воздвигли в городе столько памятнику императору, сколько не было во всей России.
Напиток же под названием кипрейка стал, что называется, брендом Петровска. Построили винный заводик, наладили выпуск штофов из зеленого стекла, увенчанных пробками в виде короны. На этикетке красовался царь Пётр в полный рост. Со шпагой. С тех пор повелось принимать судьбоносные решения только после употребления кипрейки – петровского напитка. Повсеместно.
Ко времени, о котором идет речь в нашем повествовании, город Петровск стал районным центром с населением шестьдесят тысяч человек. Многие трудились на вышеупомянутом заводе – градообразующем предприятии. Продукция пользовалась спросом у самых разных слоев населения, а кипрейка «Царская» отправлялась на экспорт в страны социалистического лагеря. Кипрейка же под ласковым названием «Катюша», которую выпускали по древнему финскому рецепту, поставлялась исключительно в капиталистические страны. С понятной целью.
У простых граждан популярностью пользовалась кипрейка «Народная» за доступную цену и способность раскрашивать жизнь в яркие цвета. Ассортимент был широчайший – вплоть до самого демократичного крепленого «Солнцедара».
Завод, как и положено, имел свой детский сад, профессионально-техническое училище, музей, поликлинику и санаторий-профилакторий, разместившийся в одном из восстановленных дворцов на берегу Финского залива.
В Петровске был морской порт, откуда отходили корабли в дальние страны. Неподалеку располагалась судоверфь. Сама атмосфера города оказывала сильнейшее влияние на становление личности каждого юного жителя. Не важно, кем он становился во взрослой жизни – шофером, зубным техником, начальником цеха или заурядным выпивохой, в душе чувствовал себя моряком. И практически под каждым пиджаком, рубашкой, спецовкой или свитером была тельняшка. Кто-то гордо ее демонстрировал, а кто-то скрывал, как самое заветное. Якорек на руке у мужской части населения считался особым шиком, подчеркивал принадлежность к морской воле и доле. Мишка Меньшиков уже в пятом классе сделал себе такую наколку. Пытался вовлечь в морское братство и друга Павлика, но тот побоялся: у мамы была тяжелая рука. Впоследствии якорь появится на руке у Павла – все-таки он был настоящим патриотом города со славной морской историей. Он любил море и верил, что это его судьба.
Туристов в Петровск привлекали старинные крепостные сооружения с чугунными пушками и заботливо восстановленный парковый ансамбль с дворцом восемнадцатого века, принадлежавшим одному из сподвижников Петра. С размещенным в нем музеем.
Надо признать, что особой любовью жителей и гостей города пользовался небольшой павильон, украшенный по фасаду мозаичным изображением травы кипрейки. Заведение находилось на балансе винзавода. Здесь можно было ознакомиться с историей предприятия, начиная с петровских времен, и отведать любой напиток. Каждый мог позволить себе это удовольствие. Советский человек способен был надегустироваться до потери сознания за три рубля, с иностранцев брали в тройном размере. Такие правила придумал предприимчивый и политически грамотный директор завода. Он же стал инициатором установки скульптурной композиции «Пётр со сподвижниками, пирующий на просторе».
На центральной площади города возвышалось здание районного комитета партии с колоннами строгого дорического ордера. Перед входом, согласно регламенту, был установлен памятник Ленину в кепке. Правда, выглядел он не очень авантажно – лепили его явно без души, формально. Зато стоящий в нескольких метрах бронзовый Пётр со змеей являлся настоящим произведением искусства.
Это парадный Петровск. Были и другие районы, застроенные деревянными, а также двух- и трехэтажными домами из силикатного кирпича. В одном из таких домов и проходило детство нашего героя.
Как говорил классик, «бытие определяет сознание». Определяющим в бытии Павлика Солнцедарова были два холодильника марки «ЗиЛ». Белые сверкающие близнецы-красавцы занимали чуть ли не половину кухни и содержанием напоминали пещеру Аладдина.
Желтыми брусками, похожими на золотые слитки, лежали куски сливочного масла. Твердокопченые колбасы излучали непередаваемый аромат благополучия и зажиточности. Им вторили круглые упитанные сыры. Шоколадные плитки занимали целую полку. Отдельно хранились икра красная в жестяных баночках и икра черная в стеклянных. Шкаф был забит банками дефицитного растворимого кофе из Индии. Всё это мама приносила в сумках с работы.
Украшением комнат служили хрустальные люстры из Чехословакии. Из этой же братской страны прибыли хрустальные бокалы, фужеры, вазочки – украшение серванта. Тоже импортного. На стенах висели ковры. Книжный шкаф вызвал бы зависть у любого любителя литературы. Помимо подписных изданий в суперобложках (от Пушкина до Горького) здесь были чуть ли не все романы Дюма и Майн Рида, а также увесистые тома альманахов «Мир приключений» и сборники стихов любимых Марией Антоновной поэтов. Далеко не в каждом доме можно было увидеть такое богатство! Не следовало его видеть посторонним людям – считала мудрая женщина. Поэтому Павлику запрещалось приводить домой друзей.
Люди в возрасте прекрасно помнят, как создавалось такое благополучие. Для наших юных читателей поясним. У Аркадия Райкина есть сатирическая миниатюра про «уважаемых людей». Вот отрывок: «В театре просмотр, премьера идет. Кто в первом ряду сидит? Уважаемые люди сидят: завсклад сидит, директор магазина сидит, сзади товаровед сидит. Всё городское начальство завсклада любит, завсклада ценит. За что? Завсклад на дефиците сидит». Ну, и так далее…
Дефицит появлялся в квартире Солнцедаровых благодаря тому месту, которое занимала Мария Антоновна в кругу «уважаемых людей». Завпроизводством крупного предприятия общественного питания могла многое и обладала большими связями – всем были нужны дефицитные продукты.
Кое-что перепадало и главе семейства. В мебельной стенке имелся встроенный бар, в котором, переливаясь всеми цветами радуги, ожидали своего часа редкие по тем временам напитки в красивых бутылках, включая экзотическую текилу. Бар закрывался на ключ. Ключ хранился у Марии Антоновны. По праздникам Иван Солнцедаров допускался к коллекции. Ему дозволялось прикоснуться к прекрасному – к одной из бутылок.
Неизгладимый отпечаток на каждого гражданина необъятной родины накладывала некоторая двойственность, которая стала чуть ли не основой жизни людей:
Думали одно – говорили другое.
Декларировали всеобщую свободу, а за границу могли выехать только товарищи проверенные, достойные. Да и то в соцстраны.
Официально заявляли, что в Советском Союзе секса нет. А сходили бы вы душным летним вечером в городской парк – парочки там не только целовались.
Боролись за коммунистические идеалы, а с работы тащили всё, что плохо лежит. Не потому, что мерзавцы, а потому, что в магазинах было не купить. К примеру, Мария Антоновна Солнцедарова была Ударником коммунистического труда, ее портрет висел на заводской Доске почета. Она всегда знала меру, очень аккуратно выносила с работы продукты. И никогда не игнорировала просьбы начальства.
Иван Никифорович Солнцедаров на комбинат бытового обслуживания устроился сразу после срочной службы, где отличник военно-морского флота старший матрос стал членом КПСС. Прямой, открытый человек работал честно. Максимум, что он мог себе позволить – принять в знак благодарности от клиента бутылку водки. Иван никогда не отрывался от коллектива, позволял себе по пятницам выпить с друзьями на работе. А в субботу ту же процедуру повторить на рыбалке, которая была его главным увлечением.
С годами повод выпить стал появляться всё чаще. Начальство начало ощущать некие флюиды, исходившие от Ивана Никифоровича, а уже заметное дрожание рук отражалось на качестве выполняемой работы. Другого могли бы уволить, но Солнцедаров был членом партии с большим стажем и по-своему человеком незаменимым – он являлся единственным рабочим-коммунистом на предприятии.
Людям, далеким от тогдашних реалий, поясним: во время партийных собраний в президиуме обязательно должен был сидеть представитель рабочего класса. Поэтому много лет Ивана Никифоровича избирали. Он не мог нарушить партийную дисциплину и добросовестно высиживал унылые часы на скучных мероприятиях. Но в один прекрасный день утомленный жизнью Солнцедаров в категорической форме отказал секретарю партийного бюро занять место в президиуме: «Устал».
Его уговаривали всем составом партбюро. Нельзя было нарушать ритуал.
«Хрен с вами, – сказал Иван Никифорович. – Буду сидеть, если стакан нальете. Без стакана не сяду».
С этого дня далеко не лучший, сильно пьющий член коллектива и первичной партийной организации, махнув стакан, занимал место за столом президиума. Испытывая легкое чувство эйфории, он сидел подчеркнуто прямо. Монотонные речи клонили в сон, но многолетняя выдержка и чувство долга не позволяли заснуть.
На почве развитого социализма вырастали не только герои: летчики, шахтеры, космонавты, геологи. Было очень много обычных хороших людей, которые работали, воспитывали детей, старались жить по совести. Однако было немало и тех, кто приспособился к системе, знал ее сильные и слабые стороны и использовал их к личной выгоде.
Но вернемся в квартиру Солнцедаровых. Вечер. На втором этаже дома из силикатного кирпича светятся два окна. В большой комнате, которую Мария Антоновна называет гостиной, на двадцати квадратных метрах напротив книжного шкафа и стенки с хрусталем расположились двуспальный диван бордового велюра, два кресла из того же гарнитура, массивный стол с зеленым сукном и выдвижными ящиками, приобретенный по знакомству в комиссионном магазине. Каждый ящичек закрывается на ключ. Когда стол покупали, ключей при нем не было, и Мария велела мужу их изготовить. Причем, каждый ящик должен был закрываться на свой ключ.
Иван ответственно подошел к выполнению задания – ключи смастерил. Хранились они в укромном местечке, известном только Марии Антоновне.
Была у стола особенность – нижний левый ящик имел двойное дно. Его женщина обнаружила при тщательном досмотре приобретенной вещи. Напомним, Мария с юности увлекалась книгами о приключениях и путешествиях. Там нередко в старой мебели находили тайники с драгоценностями. Роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» не прошел мимо ее внимания.
В данном предмете мебели сокровищ не было. Мария Антоновна не расстроилась и в тайнике хранила собственные украшения: золотые кольца и цепочки, несколько пар сережек, золотые часики и колечко с бриллиантом. Часть вещиц была подарена старинным другом Иваном Михайловичем Петрушиным. Часть же предусмотрительная женщина приобрела по случаю. Деньги на покупки она, естественно, заработала сама.
Украшала стол бронзовая дореволюционная лампа с абажуром.
Почетное место занимал новенький цветной телевизор, установленный на комоде. На нем расположились фарфоровые фигурки, изготовленные руками сентиментальных немецких мастеров девятнадцатого века.
За столом Мария Антоновна работала с документами (накладными, сметами, таблицами). Со стороны заведующая производством напоминала вдохновенного творца: то роденовского мыслителя, раздумывающего о бренности жизни, то поэта Пушкина, подбирающего подходящую рифму.
Это уже не та кустодиевская Венера, в которую без ума влюбился молодой комсомольский работник Иван Петрушин. Она раздобрела, хотя и не потеряла некоторой привлекательности.
Под ее пером рождались грандиозные схемы: обычная треска превращалась в благородного сига, мясо второй категории приобретало категорию высшую, пожухлые морковь, картофель и свекла становились свежайшими, а дешевый грузинский чай второго сорта чудесным образом превращался в индийский и цейлонский высшего качества.
Дверь в комнату приоткрылась, появилась изрядно полысевшая голова мужа:
– Машенька, я могу телевизор посмотреть? Сейчас футбол будет.
Мария Антоновна грохнула деревянными счетами по столу:
– Испортил песню, дурак!
Иван Никифорович тихонько прикрыл дверь и удалился в свою каморку, которую называл мастерской. Там, на площади в два квадратных метра, разместились верстачок с маленькими тисками и наковаленкой. На полочках, сделанных руками самого Солнцедарова, были любовно разложены инструменты для самой разной работы: отвертки и отверточки, напильники и надфили, сверла, молоточки, паяльники и множество разных вещичек, назначение которых не всякому понятно.
Иван со вздохом сел на табуретку, развернул на верстаке кусок тонкой замши, протянул руку и взял с полки очки, которые принесла починить соседка. Расплатилась она с ним «четвертинкой» (для читателей, не употребляющих алкоголь регулярно, поясним – это бутылка водки емкостью четверть литра, то есть 250 граммов). Хотя Иван Никифорович уже привык к тому, что жена относится к нему без уважения и даже помыкает им, он чувствовал обиду. Это мешало приступить к работе. А без вдохновения мастер работать не мог.